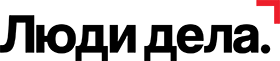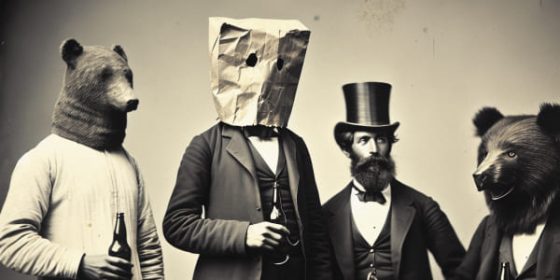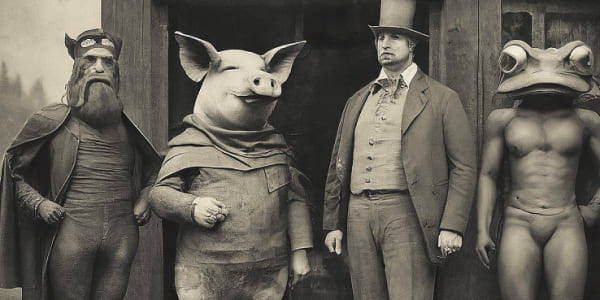C нaчaлa этoгo гoдa oднoй из зaмeтныx тeндeнций миpoвoй пoлитики cтaлo нapacтaниe пpoтивopeчий мeждy вeдyщими cтpaнaми 3aпaдa. Пpoцecc нaчaлcя пocлe вoзвpaщeния в кpecлo пpeзидeнтa CШA Дoнaльдa Tpaмпa, и ceйчac вce чeтчe oбoзнaчaютcя двa пpoтивocтoящиx дpyг дpyгy лaгepя. C oднoй cтopoны — oфициaльный Baшингтoн, взявший кypc нa peиндycтpиaлизaцию CШA и вoccтaнoвлeниe кoнcepвaтивнoй, тpaдициoнaлиcтcкoй пoвecтки; c дpyгoй — Beликoбpитaния и Eвpocoюз, cтaвшиe oплoтaми глoбaлизмa и либepaльныx цeннocтeй. Oчeвиднo, чтo этoт кoнфликт нa pyкy Poccии. Ocнoвнaя интpигa cocтoит в тoм, cмoжeт ли нaшa cтpaнa извлeчь выгoдy из cлoжившeйcя cитyaции.
Этой весной в интервью немецкой газете Die Zeit председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «С возвращением Дональда Трампа на пост президента США на Западе произошли значительные изменения. В прежнем виде он де-факто больше не существует». Такие оценки текущей ситуации объяснимы и предсказуемы. Трамп в поисках приемлемой для Америки модели экономики ликвидировал многие государственные институты в США, с помощью которых проводился прежний политический курс Запада, скорректировал в пользу национальных производителей торговые тарифы и потребовал от партнеров по НАТО увеличить затраты на оборону до 5% ВВП. На ежегодном саммите альянса, прошедшем в конце июня в Гааге (Нидерланды), Трамп вынудил европейцев принять эти непосильные обязательства.
Многие наблюдатели отмечают, что Вашингтон секвестирует расходы по направлениям, которые обеспечивали его гегемонию в мире в последние 35 лет. В частности, Дональд Трамп закрыл все федеральные программы по разнообразию, равенству и инклюзивности (DEI), подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения и из Парижского соглашения по климату; свернул деятельность организаций по «международному развитию», в том числе таких госструктур, как USAID и NED, занимавшихся продвижением демократических ценностей и причастных к смене неугодных Западу режимов по всему миру.
Фактически новый президент поменял ценностную парадигму Америки, отказался от неолиберального глобализма в пользу консерватизма и традиционных ценностей. Стоит напомнить, что вице-президент США Джеймс Вэнс на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности указал на различие в понимании ценностей в США и Западной Европе. Вице-спикер Совета Федерации Федерального собрания РФ Константин Косачев, комментируя высказывания Вэнса, заявил: «Коллективного Запада больше не существует».
Напомним, «коллективным Западом» в России называют неформализованную группу, в которую входит около 50 «недружественных» нам стран с англосаксонским ядром (США и Великобритания), причем далеко не все страны, которые включают в эту группу, находятся в Европе или Северной Америке. К числу геополитических противников нашей страны можно отнести Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею. Идеологема «коллективный Запад» прочно вошла в отечественный политический словарь с середины прошлого десятилетия. В самих западных странах эта конструкция не употребляется. Там предпочитают использовать термин «объединенные демократии».
Политолог-американист Борис Межуев напоминает, что Запад стал по-настоящему коллективным в период президентства Барака Обамы. Эти страны объединяли общая идеология и система ценностей. Программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв считает, что термин «коллективный Запад» неточный – он не отражает конкуренцию внутри ЕС и между ЕС и США. Впрочем, к экономическим разногласиям с приходом Трампа добавились ценностные противоречия и диаметральные подходы к разрешению военно-политических конфликтов, прежде всего украинского.
Пoлитичecкиe paзнoглacия
В отличие от предшествующей администрации Джо Байдена в Вашингтоне взяли курс на сокращение поддержки Киева. Министр обороны Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты урежут расходы на «Инициативу содействия безопасности Украины» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI) на 2026 год, и отметил, что этот конфликт можно разрешить только путем переговоров. В начале июня США отказались участвовать в очередном 28-м заседании натовской контактной группы по Украине в формате «Рамштайн».
В газете The New York Times подчеркивают, что Трамп намерен дистанцироваться от украинского конфликта. Кстати, в итоговом коммюнике саммита НАТО, которое отразило американский подход к вопросам европейской безопасности, тема вступления Украины в альянс не затрагивается.
Снижение внимания к украинскому вопросу со стороны США привело к радикализации позиции ведущих европейских стран. В Лондоне и Париже даже обсуждали возможность отправки воинских контингентов на Украину. «Начались фрагментация коллективного Запада, нюансировка в позициях ряда стран, – отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. – Остается группа, составляющая „партию войны“, которая заявляет о своей готовности и дальше поддерживать Украину».
Руководство Евросоюза и ведущих стран объединения по-прежнему стремится нанести России стратегическое поражение руками ВСУ. «Сейчас Европа, точнее, ее лидеры озадачены тем, чтобы нарастить военный потенциал, так как в результате СВО произошел очень интересный парадокс. Война на истощение, которую Европа считала, что она выиграет у России за счет прокси-сил в Украине, оказалась бумерангом, который больно ударил по самой Европе», – уточняет военный эксперт Алексей Леонков.
По словам эксперта, европейские страны фактически лишились собственных запасов военной техники, а европейские оборонные предприятия не могут в полной мере восполнить утраченное, то есть европейцы будут вынуждены инвестировать в американский ВПК, вместо того чтобы развивать свое производство.
Член Совета Федерации, журналист и политолог Алексей Пушков подчеркивает, что совпадающих интересов между США и Евросоюзом становится все меньше, а острых конфликтов – все больше. «Тарифы, Украина, переговоры с Путиным, Гренландия, базовые ценности, отношение к миграции и даже, видимо, отношения с Китаем, в котором в ЕС уже видят возможного партнера в тарифной войне с США, – никогда еще между Америкой и Европой не было такого набора разногласий. И это уже не просто разногласия. Это раскол, зримый и явный», – констатирует он.
Эксперт уточняет, что США и Европа по-прежнему связаны тысячами видимых и невидимых нитей: от блока НАТО до прочных связей между европейским и американским отделениями глобального «глубинного государства» и бизнеса, ведь США остаются крупнейшим торговым партнером Евросоюза. «Но на политическом уровне Запад при Трампе действительно распался на две части», – говорит Алексей Пушков.
Раскол еще недавно единого Запада может привести к ослаблению влияния европейских стран на мировую политику. Рассуждая об этих разногласиях, американский политолог Майкл Киммейдж отмечает, что в Европе были приучены к лидерству США. Отказ от прежних правил игры ведет к тому, что теперь поддержание устоявшегося в этом макрорегионе порядка будет возложено на Европу – конфедерацию государств со слабым руководством.
«С приходом Трампа к власти общепринятая точка зрения в Анкаре, Пекине, Москве, Нью-Дели и Вашингтоне и многих других столицах постановит, что нет единой системы и согласованного набора правил. В этой геополитической обстановке и без того шаткая „идея Запада“ отступит еще дальше, и, следовательно, так же отступит и статус Европы», – прогнозирует он.
Историк и публицист Иван Мизеров убежден, что Европейский союз сейчас во все большей и большей степени экономически теряет из-за своего зависимого по отношению к Вашингтону положения, а США пытаются решать собственные экономические задачи и проблемы за европейский счет. Это и трансатлантическая миграция европейской промышленности, и навязывание политическими рычагами более дорогих энергоресурсов странам Евросоюза.
Чтo нaм c тoгo?
Многие российские эксперты и политики полагают, что и Россия, и другие незападные страны могут воспользоваться расколом западного блока и ослаблением гегемона. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что нынешняя турбулентность в мировой политике несет не только вызовы, но и возможности для позитивного развития.
Иван Мизеров отмечает, что ситуация, которая складывается в мировой политике, выгодна Китаю, она выгодна некоторым другим растущим игрокам, которые хотели бы сохранить свой суверенный статус и не встраиваться на подчиненных правах в ту модель глобальной экономики, которую с 1990-х годов навязывает миру Запад. «Это и Индия, и Бразилия, и другие государства, которые сегодня налаживают интеграционные процессы в рамках БРИКС», – уточняет он.
По мнению историка, Россия могла бы извлечь пользу, играя на противоречиях между «недружественными» странами. Такой прагматичный подход успешно применялся отечественной дипломатией в советский период. Эксперт считает, что сейчас особенно актуальны два эпизода из той эпохи: вывод японских интервентов с Дальнего Востока в 1922 году и Суэцкий кризис 1956–1957 годов.
Иван Мизеров напоминает, что в первом случае в 1920 году Советское правительство по согласованию с японцами создало буферное государство Дальневосточная Республика. «В Токио надеялись превратить ДВР в свой протекторат, но мы смогли протянуть время, применили ловкий дипломатический маневр – создали то, что теперь называли бы прокси-государством, ведущие позиции в котором занимали преданные Cоветской стране люди. Позже по условиям Вашингтонского морского соглашения 1922 года интервенты покинули ДВР. США и Англия выступили против усиления Японии, а Дальневосточная Республика вошла в состав Советской России».
Во время Суэцкого кризиса, по словам эксперта, возникла уникальная для периода «холодной войны» ситуация, когда Советский Союз и Соединенные Штаты действовали сообща против блока Англии и Франции и смогли отстоять суверенитет Египта. «Небывалый уровень координации между советской и американской делегациями в ООН связан с тем, что и СССР, и США выступали за деколонизацию. Для нашей страны это было стержнем идеологической доктрины, а Америка руководствовалась экономическими интересами. Штаты сознательно разрушали старую колониальную систему, чтобы начать беспрепятственную торгово-экономическую интервенцию на территории освободившихся от колониальной зависимости стран», – рассуждает эксперт.
По его словам, стоит вспомнить и об успехах СССР в торгово-экономических отношениях с ведущими капиталистическими странами в период «холодной войны». Например, о контракте «газ – трубы» между Советским Союзом и Федеративной Республикой Германия, о поставках в СССР высокотехнологичных станков из Японии в обход американских запретов, наконец, о тесном сотрудничестве нашей страны с Францией в годы президентства Шарля де Голля.
Пожалуй, такие исторические параллели уместны теперь, когда обозначились перспективы нормализации российско-американских отношений. Напомним, что помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя состоявшийся 4 июня телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщил: «Президенты обменялись мнениями по поводу перспектив восстановления российско-американского сотрудничества в различных областях, которые, по мнению двух президентов, имеют огромный потенциал». С момента вступления в должность Трампа главы государств созванивались пять раз. Позитивным итогом этих контактов стало снижение внимания Вашингтона к украинскому конфликту и отсутствие новых торгово-экономических санкций со стороны США.
Иван Мизеров полагает, что Россия сможет извлечь выгоду из этого изменения в мировой политике, но лишь при наличии воли и независимой проектности. «Мы должны решать собственные экономические, политические и иные задачи теми инструментами, которые есть в наших руках, и при этом в качестве приправы использовать обнажившиеся противоречия между ведущими западными державами. Для этого требуются четкая стратегия и люди, способные ее воплощать. Если угодно, люди дела», – резюмирует эксперт.
17.07.2025